Сельские учителя. Что вы, городские, знаете об этих людях? А ведь это они воспитывают деревенских детей по всей нашей необъятной глубинке – от Калининградской области до Чукотки. Им не всегда доступны блага цивилизации: плохая связь, печное отопление, отсутствие горячей воды, зимой все в валенках, в остальное время года – в резиновых сапогах, детей на уроки привозит школьный автобус по грязной и разбитой дороге, в библиотеке, если она и есть, отсутствуют книги для развития учителя как педагога и личности, Интернет с перебоями... Но они не оставляют свою сельскую школу, потому что если школы в глубинке закроются, оттуда уедут все семьи с детьми-школьниками. И кто для вас, горожане, будет выращивать хлеб и картошку, надаивать молоко и откармливать скотину? Поэтому на деревенских учителей надо буквально молиться, чтобы оставались у них силы нести свой тяжёлый педагогический крест.
Деревня как жертва оптимизации
Татьяна и Александр Петровские живут и работают в деревне Чернецово. Это всего лишь восток Псковской области, не Колыма, но добираться сюда не слишком удобно. Сначала надо доехать до райцентра Дедовичи, а потом свернуть на широкий пыльный большак, ведущий к деревням верховьев реки Шелони. Он удивительно хорошо содержится, и чуть позже мы узнаем, почему.
Остаётся в стороне большой некогда посёлок Городовик. Сейчас там даже школу закрыли, а жители разбежались кто куда из силикатных двухэтажек, построенных для так и не заработавшего торфопредприятия, от которого даже узкоколейки не осталось. В пыли блекнут подслеповатые избы придорожных деревень, на задах которых уныло копаются дачники – машины-то всё с питерскими номерами. Дачники тут унылые, потому что места торфяные, приболоченные, купаться негде, одолевают слепни и мошка, а до города далеко. У многих здесь бабушки-дедушки жили, остались избушки, вот и приезжают городские потомки.
Вот и деревня Чернецово – она самая большая в здешних краях, была волостным центром, пока не пала жертвой недавней оптимизации, когда дальние и бесперспективные на взгляд областной власти поселения лишили администрации, заставив оставшихся здесь людей ездить решать насущные вопросы за тридевять земель. Но в Чернецове ещё кое-кто остался: работает почта, магазин, библиотека, а самое главное – школа. Пусть она маленькая – всего два десятка учеников, но именно школа не даёт окончательно захиреть этому углу. В этом абсолютно уверена учительская чета Петровских. Татьяна Ивановна долгое время была директором школы, преподаёт русский и немецкий языки и литературу. Александр Валентинович – учитель истории, труда, физкультуры и чего-то ещё, сельские учителя поневоле осваивают смежные специальности из-за недостатка кадров и низких зарплат.

Родина партизанского обоза
– Дорогу эту из-за школы так хорошо содержат, потому что у нас в дальней деревне Нивки, откуда когда-то уходил партизанский обоз, живут двое учеников, – рассказывает Татьяна Петровская. – Туда ходит школьный автобус, а по плохой дороге его не пустят, за этим следит роно. Не будет школы – не будет дороги, таких примеров множество и в нашей области, и в соседних. А про обоз-то знаете? Здесь у нас был партизанский край, советская власть в окружении немцев, и жители наших деревень, сами не имея лишнего куска, собрали обоз с продовольствием для помощи блокадному Ленинграду. Обоз – несколько десятков саней с лошадьми – пересёк линию фронта и доставил продукты в город. Привезли около 38 тонн: мясо, рожь, пшеницу, горох, овёс, крупы, масло. Исходя из нормы выдачи, продуктов, привезённых партизанским обозом, могло условно хватить на питание около 4 тысяч детей в детских домах осаждённого города в течение месяца. Вы представляете, насколько это было существенным для ранней весны 1942 года? Вот такие у нас тут были героические люди...
Именно бывшая Чернецовская основная средняя школа (то есть девятилетка) – нынче её сделали филиалом Дедовичской средней школы № 2 – поддерживает память о партизанском обозе и воспитывает своих учеников в духе гордости за свою родину. У школы даже есть благодарственное письмо от администрации Псковской области за патриотическую работу. Отчаянные люди! Здесь до райцентра – километров 40 по грунтовке, рейсовый автобус ходит не каждый день, свои машины далеко не у всех, и если срочное дело типа больного зуба или покупки лампочек, то придётся, по словам Петровских, выложить 1 000 (!) рублей за поездку на такси туда и обратно. Раньше, до строительства ГРЭС в Дедовичах, которую наполовину возвели, да так и оставили (да и первая половина вообще-то не нужна была, нет тут такого энергопотребления), стоял мост через неширокую Шелонь и было до Дедовичей 25 километров. Из-за плотины река сильно разлилась и моста больше нет. А они тут детей учат…
Александр Петровский когда-то окончил эту же школу и с детских лет помнит, как торжественно отмечали партизанские даты.
– Обоз уходил 5 марта, у нас это ещё зима, и мы всегда по снежку с ребятами собирались у партизанских памятников, их у нас несколько, венки самодельные возлагали, – вспоминает учитель, чей выпуск был последним, который после обучения в городе почти в полном составе вернулся работать в родную деревню. – И теперь мы возим своих учеников по этим местам. Дети ведь гордятся своими предками, которые сумели в такое тяжёлое время собрать продовольствие для блокадного города. Отдавали запасы добровольно, ни у кого насильно не отнимали – мы старожилов опрашивали. А они сами досыта не ели. Но понимали, что там, в блокаде, людям ещё хуже.
Выживание – норма для деревни
У нынешних выпускников деревенской школы жизнь, конечно, не блокадная, но немногим лучше. Они давно чувствуют, что никакой власти эта земля не нужна, поэтому работы здесь нет никакой – фермы закрыты, поля заросли бурьяном и борщевиком, и никто не держит скот даже в личном хозяйстве. Все выпускники школы стараются попасть в Дедовичский колледж (бывшее ПТУ), чтобы закрепиться хотя бы в райцентре, а потом уже и в Псков с Питером подаваться. Кто не уехал – тот ведёт довольно своеобразную жизнь. Вот как паренёк Сашка из соседней деревни.
– Я девятилетку окончил, нигде работы нет, пробовал лес заготавливать для одной конторы, но они меня кинули с зарплатой, – делится Сашка. – С тех пор работаю на себя. Чагу собираю – лекарственный гриб, другие грибы, ягоды, продаю их, рядом река, рыбу можно ловить, огород у нас есть, в общем, дикарями тут и живём. У нас снимал фильм один московский режиссёр, и нас спрашивали, выживем ли мы в тех условиях, в которые были поставлены партизаны во время оккупации. Вывезли в лес, сказали: представьте, что у вас дом сожгли, имущества не осталось, еды нет – ну, выживайте! Мы выжили: нашли щавель, другую съедобную кору, сделали шалаш...
Татьяна Петровская, вздыхая, вторит мужу:
– Я родом из Навережья, это огромное село было в нашем же районе, но дальше к Пскову. Теперь обезлюдело тоже. Моя мама была ребёнком во время войны, а бабушка не любила рассказывать о войне, хотя мы, дети, всё время её просили, она только говорила: «Не дай бог вам это пережить». Дед один не дал немцу мёда – так всю семью его расстреляли. Полицаи – это было самое страшное, не немцы, ведь это были свои же соседи. Мама рассказывала, что дочка полицая ходила в её шубке, в её валенках – всё отняли, потом полицай с семьёй ушёл за немцами, а затем эта компания вернулась назад, якобы они были угнаны в Германию. Все, кто по-настоящему пережил войну, кто в ней участвовал, не очень охотно об этом говорят, болтают только профессиональные болтуны. Здесь, в Чернецове, живу очень давно, как замуж вышла. Знаете, что тут самое страшное? Это утренняя тишина. Раньше мы с Александром утром собирались на работу – трактора гудели, бидоны звенели, дети галдели, в каждом доме радио включено, петухи пели, коровы мычали... Теперь тишина просто мёртвая, особенно зимой. Наш петух запоёт – и тут же останавливается, даже ему не по себе. Люди уезжают в город и возвращаются только на пенсии.

В школе – хорошие, дома – плохие
Да, оставшихся в деревнях по пальцам можно пересчитать. Те, кто уехал в город, постоянно возвращается в деревню – на отдых, на рыбалку, посадить огород, подлатать дом. И только в старости, на пенсии, люди могут переехать обратно в село – если есть исправное жильё. Спросишь, почему уехали, – ответ один: «А что тут делать?». Главное, что нет работы за адекватную плату, часто и вовсе никакой. Натуральным хозяйством не проживёшь, электричество или посуда на огороде не растут, денег никто не отменял, а продать урожай не всегда реально. Один мой знакомый, приличный господин, любит пафосно заявить, что жить на селе – легко, просто все ленивые стали, а его дед, мол, три коровы держал и не возмущался. Тем не менее господин, даже приближаясь к пенсионному возрасту, вовсе не спешит завести три коровы в деревне, раз это так легко, а предпочитает трудиться в офисе и покупать молоко в магазине.
Татьяна Петровская продолжает:
– Сейчас у нас детей совсем мало, а было время, когда здесь было 66 школьников. В таких маленьких классах – практически индивидуальное обучение. Но есть и минусы – например, всякие дурацкие нормативы: то классные доски должны быть коричневыми, то зелёными, то опять коричневыми... Когда в нашей области был губернатором Кузнецов, его мама написала учебник по химии, плохой учебник, а все школы заставляли его покупать, нас тоже, но мы тихонько учили по старому учебнику, главное – чтобы проверяющие не заметили. Но и это не самое страшное. Страшно другое. Теперь даже сельским детям всё запрещают, любая деятельность регламентирована: ни в походы сходить, ни в огороде помочь – ребёнок может нажаловаться на учителя или родителя, будут разборки. Нам приказали вывесить в школе детский телефон доверия, чтобы на нас же жаловались, но дети ведь не знают, что звонить надо только тогда, когда реально плохо, а не просто сводить счёты со взрослыми. Возить детей куда-либо надо с такими предосторожностями и сложностями, что проще не возить вообще. В походы ходить нельзя, в палатке жить нельзя – вдруг клещ укусит, а доступной бесплатной вакцинации у нас нет, нас же посадят после этого. Даже полоть пришкольные грядки прошу с осторожностью – на меня родители могут нажаловаться. Библиотеки у нас нет, но учителя имеют свои библиотечки, вот у меня, как у учителя русского языка и литературы, есть стотомник русской классики, была возможность его купить для школы. Мы учеников воспитываем, как своих детей, а у нас есть и дети из неблагополучных многодетных семей, где родители пьют. У многих – восьмой вид обучения, то есть практически для умственно отсталых, у них у всех родители по-чёрному пьют. Была необучаемая девочка, но мы её научили грамоте, а родители не хотят инвалидность оформлять – лень. Была девочка с ДЦП, её из школьного автобуса товарищи буквально вытаскивали – у нас ребята дружные, помогают друг другу. Даже из Питера сюда привозили проблемных детей учиться, школу здесь окончить, и они оканчивали хорошо.
Но как проблемные становятся здесь хорошими? Александр Петровский уверен, что дело в подходе к каждому конкретному ребёнку:
– Думаете, у нас все тут такие патриархальные, воспитанные, дети природы? Ага... Вот один бывший ученик – он учился по восьмому типу, поэтому его и не берут никуда на работу. У него мать – алкоголичка, старших детей – их много у них – отдали в детские дома, а про этого забыли. Он так и вырос: мальчик неконфликтный, даже вежливый, но вороватый, его даже родня в дом не пускает, обязательно что-нибудь украдёт, он же как нищий живёт. И другие дети у нас воруют и домой несут украденное. Вот один мальчик принёс домой украденные у старухи-соседки 30 тысяч – так мать счастлива была, все долги отдала и водки накупила, даже не спросила, где он деньги взял. Нас спрашивают, что мы делаем с детьми, что в школе у нас они хорошие, а дома сразу плохие, но ведь это значит, что дома родители не имеют никакого авторитета, дети их не уважают. А мы с женой всегда учим по принципу «делай как я» – в деревенской школе все на виду, так что это действует.
Фото из личного архива автора.
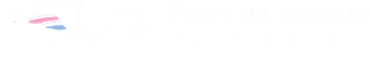


























При добавлении нового комментария на данный материал, Вам на почту будет приходить уведомление об этом со ссылкой на новый комментарий. В любой момент Вы можете отписаться от уведомлений, перейдя по специальной ссылке в тексте письма.
Для активации подписки, просьба перейти по ссылке в письме!
Читаю и слезы на глазах. В школе хорошие, а дома плохие.. Конечно они будут плохие, если такая жизнь у них!
Жалко таких детей... Жизнь с рождения под откос и выбраться из этой жопы без поддержки так сложно. практически невозможно. Дай бог здоровья таким учителям, которые пытаются из проблемных учеников сделать людей.
Я свои 9 классов закончила в поселковой школе. У нас были прекрасные учителя, которые дали действительно хорошие знания. Но так повезло не всем. Тем более, у меня семья была хорошая - работящая мать, заботливая бабушка, сестры приличные. В общем, никаких проблем с алкоголем и деньги относительно были. Сейчас уже такого нет и не будет. В поселках и селах остаются неблагополучные, которым и идти то некуда. Безысходность полная.
молодцы они! не орут про патриотизм, а детей учат. всех бы этих чиновников отправить по деревням и пусть детей учат , а не демагогией занимаются про будущие поколения.
Вообще я убеждена, что именно так ребёнок и должен учиться....не за партой, ограниченный в свободе. А на природе, исследуя мир. Также перед школой я и полезные добавки подключила, чтобы учёба давалась попроще. У нас это бэби формула омега-3 в форме рыбок. Ей остались очень довольны. Качество супер и вкусная.